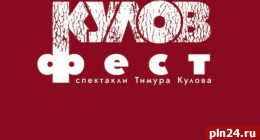 24.04.2025 18:540
«Каинова печать». PROявленное
18.12.2024 10:440
Кулов-фест: Что-то на человеческом
29.10.2024 09:071
Сон в осенний вечер
06.06.2024 11:110
Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина
29.05.2024 12:260
Три дня чистого искусства
24.04.2025 18:540
«Каинова печать». PROявленное
18.12.2024 10:440
Кулов-фест: Что-то на человеческом
29.10.2024 09:071
Сон в осенний вечер
06.06.2024 11:110
Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина
29.05.2024 12:260
Три дня чистого искусства
«Каинова печать». PROявленное
На малой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоялись первые показы спектакля «Каинова печать», поставленного режиссером Тимуром Куловым по пьесе Леонида Андреева. Пьесы полузабытой, неотредактированной, с несчастливой сценической судьбой, не понятой современниками Андреева и почти никогда не интересовавшей наших с вами современников (постановок по пальцам одной руки пересчитать). Кажется, мы не забыли ни одной из тех печальных характеристик, на которые не скупилась группа поддержки псковского спектакля, объясняя, за какой трудный материал взялся Кулов.

Для более глубокой подготовки к премьере зрителям даже предложили «небольшой ликбез» от московского театроведа Александра Вислова: в статье «Между водевилем и трагедией» он подробно рассказал не об истории создания «Каиновой печати», а именно что «об обстоятельствах её появления на свет». Анонс спектакля на сайте псковского «дрампуша» по нынешним торопливым временам тоже тянет на статью (в публицистическом смысле!), вот его для подготовки к пониманию «Каиновой печати» по-куловски прочесть стоит обязательно. Всё, что там перечислено, зрителю добросовестно представят: хоррор и моралите, ужас и веселье, водевиль и трагедию, как и было сказано. Ко всем этим сильно действующим средствам прибег Тимур Кулов, чтобы рассказать историю о том, как умная, совсем не старая и всё еще красивая женщина, служившая экономкой у старого миллионера со скверным характером, вместе со своим молодым и красивым любовником-дворником уходили этого самого миллионера с целью ограбления. И почему-то после этого не обрели блаженства, вот ведь незадача, хотя правоохранительным органам и не попались. Это не спойлеры, это канва.
Канва или, точнее, рамка для спектакля очень важна: историю-то нам рассказывают в цветных фотографиях. И сценическое пространство решено как пространство то ли вагона поезда, несущегося куда-то во тьме надвигающихся катастроф XX века, то ли фотоателье, куда является главная действующая сила преступления – та самая экономка Василиса Петровна (Ангелина Курганская), чтобы запечатлеться в образе княгини. Вежливый и бесстрастный Хозяин этого салона (Андрей Ярославлев) её желание, конечно, исполнит: в неверном вагонном свете, в палитру которого добавлены инфернальные красные отблески домашней печи или паровозной топки, под ядовитые вздохи змееобразного старинного фотоаппарата.
И думаешь в этот момент, что портретная фотография, наверное, никогда не была объективной, даже когда не существовало фильтров, фотошопа и прочего ИИ. Потому что у нее есть заказчик, и он хочет казаться, а не быть. С другой стороны, в фотоделе есть почти забытое слово: проявлять. И фотография, даже самая умышленная, постановочная, человека всё же проявляет. А уж с таким остроухим и холодноглазым фотографом проявит без вариантов. Наша же, по-своему милая, Василиса Петровна – заказчица во многих смыслах.
Балуется фотографией и неприятный старик – миллионщик Кулабухов (Виктор Яковлев). Он в спектакле вообще постоянно балуется: и по причине легкого впадения в детство, и в надежде нащупать границы чужого терпения и своих возможностей, а лучше – заглянуть за них. И при всей готовности согласиться с тем, что порнографическая фотография (а именно ею старичок увлекается), патологическая скупость и беспрестанное психологическое давление на малочисленных близких – это ужас как плохо, вдруг обнаруживаешь, что старик тебе нравится. Так обаятельна эта его игра со своими будущими убийцами, так действительно по-детски он ее ведет, что внезапно понимаешь: жалеешь его не по обязанности жалеть жертву, а еще и от странной симпатии к старому греховоднику.
Видимо, Тимур Кулов при создании сценических образов руководствовался не только своим видением персонажей, но и видением самого Леонида Андреева, который от непонятости присовокупил к тексту пьесы «Заметки о действующих лицах», где разъяснял потенциальным постановщикам, что «не всё так однозначно», и все персонажи, в общем, неплохие люди, каждый страдает по-своему, у каждого было что-то заветное-светлое, разнообразно ими погубленное.
Дворник-убийца Яков Озеров (Алексей Ухов), проходящий сквозь все моральные и физические препятствия как вода, страдает от того, что не страдает, не мучается. Маргарита (Дарья Чураева), которая «в этой истории вообще не нужна» (разве чтобы спасти неподдающегося спасению Яшу), напротив, мучается не по масштабам совершенного, и тоже себя губит. И даже у фантастического дуэта – бывшего антрепренёра Зайчикова в блестящем исполнении Ислама Галиуллина и не менее блестящего Князя (Максим Митяшин) - есть внутренний свет, еще не сожранный адским пламенем: свет дружбы, свет опоры друг на друга, неожиданный для вконец опустившихся людей. И те перья, которые всегда неожиданно разлетаются от (или из?) Зайчикова при очередном его странном приступе, возможно, совсем не петушиные, а ангельские (да, мы внимательно прочитали анонс к спектаклю). Конечно, эта пара невероятно веселит публику, даже в сцене своего последнего появления, но гибнет-то Зайчиков всерьез, а там уж и Князю жить не о чем. Вот так здесь и соседствуют обещанные ужас и веселье, водевиль и трагедия, живые и мертвые.
И псковский зритель, неплохо подготовленный к театру Тимура Кулова – целым фестивалем его имени, случившемся в декабре 2024 года, может выдохнуть: ожидаемое получено. Почти ожидаемое. Почти получено.
Ведь мы помним, что спектакли этого режиссера кинематографичны, и в «Каиновой печати» он, на наш взгляд, отдал должное Алексею Балабанову: тут тебе и фотозабавы из «Про уродов и людей», и страшная печь из «Кочегара», и мухи из «Груза 200».
Помним мы и о том, что Тимур Кулов несколько лет занимался театром кукол: в «Каиновой печати» куклы пристроены в беспокойные руки обличителя - Феофана, скорбного головой (Александр Петровский).
Даже бородатые анекдоты, которыми режиссер как будто «маркирует» едва ли не каждый свой спектакль, присутствуют, вернее, присутствует – 1 штука.
Мы видим, что он остается гуманистом, рассказавшим нам историю «Лютого», невероятных «Приключений Рустема» или гоголевского «Носа».
И нельзя не признать: его «Каинова печать» производит ошеломляющее впечатление. Но при этом оставляет (хотя бы на какое-то время) ощущение опустошенности. Твои ладони еще болят от бурных и продолжительных аплодисментов, переходящих в овации, но какое-то сосущее чувство уже обустраивается в душе. Назовем его в духе брежневской эпохи чувством «неглубокого удовлетворения» или недослучившегося катарсиса. И даже возникает подозрение: а не является ли всё увиденное, выражаясь словами Зайчикова, которых нет в пьесе Андреева, «какими-то потугами, модерном, постдраматической метаиронией, пренебрежением к автору»? Одним слово, дезориентированным хаосом?
Если вас после просмотра спектакля посетили похожие чувства, то рискнем предложить: дайте себе время. У «Каиновой печати» от Тимура Кулова может быть отложенный эффект. Пройдет день, два или больше, и вполне возможно, что вы обнаружите: последняя фраза спектакля, последний (и первый) вопрос Хозяина фотоателье не забыт. «В каком образе вы хотели бы быть запечатлены?» - спрашивает он сначала Василису Петровну, а в финале ее горничную или воспитанницу Лелю (Ульяна Гноевая), которая уже поднимает носик в соответствии со своими представлениями о «княгиньстве». И мы видим, что настоящий образ уже явлен вне зависимости от ее желания.
Все наши ответы известны, и не только Хозяину, но и нам самим, как бы мы их от себя не скрывали, не отказывались, не старались забыть себя настоящих (настоящих – не значит лучших). Так в каком же образе вы хотите быть запечатлены? И в каком запечатлены будете? В каком будете проявлены? Эти вопросы позволяют пережить катарсис во всей полноте, если это вам, конечно, надо.
Елена Ширяева
Фото пресс-службы Псковского театра драмы































